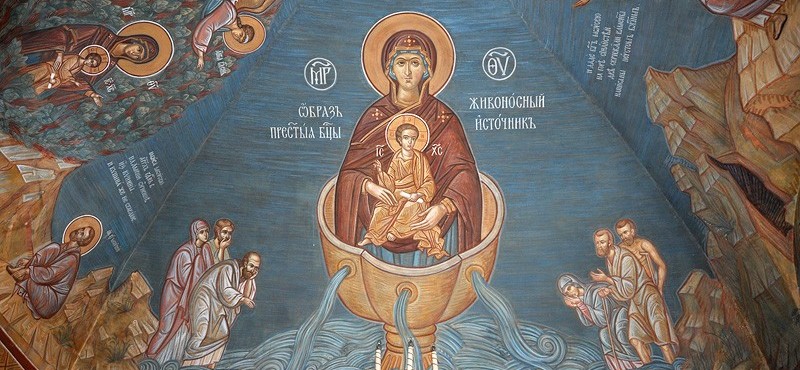Начиная с XV века идея образа Божьего уже не играет никакой роли в философии. Нравственная совесть сохраняет еще неясное воспоминание о голосе, доносящемся издалека, но чистая воля Канта отделяет его от трансцендентного. Многие богословские словари говорят сегодня не об Образе, а об Его потере, и то только в статьях о первородном грехе. Это все равно, что, вместо того, чтобы говорить о Царствии Божьем, которое направляет ход истории, говорили бы о потерянном рае. Проповедь теряет свою остроту, нейтрализованная скрытым пессимизмом — «износом» истории. С другой стороны, современный персонализм испытывает очень большие трудности, сталкиваясь со следующей основной проблемой: как согласовать единство сознания, его метафизическую универсальность с множественностью личностных центров, которые его одинаково выражают. Либо единая реальность сознания проходит через людей, либо каждый человек имеет свое собственное сознание. Без инстанции, интегрирующей оба положения, невозможно принять одно, не уничтожив другое. Вместе с тем все антропологи счастливо сходятся в одном и том же определении человека: существо, которое стремится превзойти себя самого; существо, влекомое к тому, что больше него, к тому, что «совсем иное» по сравнению с ним; дитя богатства и бедности: «бедность» в человеке направлена к его «богатству». Нужен новый апостол Павел, который обратился бы к антропологам, чтобы растолковать им новый»…жертвенник… неведомому Богу»(Деян. 17.23) и чтобы дать имя этому основному влечению, в котором человеку приходится выражать наиболее глубинное в себе: «образ Божий». Антропологическое возвещение (kerygma) святых отцов говорит, что этот «образ» не является упорядочивающей или инструментальной идеей, но конститутивным принципом человеческого существа.
Начиная с XV века идея образа Божьего уже не играет никакой роли в философии. Нравственная совесть сохраняет еще неясное воспоминание о голосе, доносящемся издалека, но чистая воля Канта отделяет его от трансцендентного. Многие богословские словари говорят сегодня не об Образе, а об Его потере, и то только в статьях о первородном грехе. Это все равно, что, вместо того, чтобы говорить о Царствии Божьем, которое направляет ход истории, говорили бы о потерянном рае. Проповедь теряет свою остроту, нейтрализованная скрытым пессимизмом — «износом» истории. С другой стороны, современный персонализм испытывает очень большие трудности, сталкиваясь со следующей основной проблемой: как согласовать единство сознания, его метафизическую универсальность с множественностью личностных центров, которые его одинаково выражают. Либо единая реальность сознания проходит через людей, либо каждый человек имеет свое собственное сознание. Без инстанции, интегрирующей оба положения, невозможно принять одно, не уничтожив другое. Вместе с тем все антропологи счастливо сходятся в одном и том же определении человека: существо, которое стремится превзойти себя самого; существо, влекомое к тому, что больше него, к тому, что «совсем иное» по сравнению с ним; дитя богатства и бедности: «бедность» в человеке направлена к его «богатству». Нужен новый апостол Павел, который обратился бы к антропологам, чтобы растолковать им новый»…жертвенник… неведомому Богу»(Деян. 17.23) и чтобы дать имя этому основному влечению, в котором человеку приходится выражать наиболее глубинное в себе: «образ Божий». Антропологическое возвещение (kerygma) святых отцов говорит, что этот «образ» не является упорядочивающей или инструментальной идеей, но конститутивным принципом человеческого существа.
* * *
Сохранение чистоты апостольской веры всегда было предметом самой живой заботы Церкви. Якорь спасения, кристалл слова Божьего — догмат- имеет акцентированное сотериологическое значение: это вопрос жизни или смерти. К примеру, одно слово omoousios (единосущный) властно исправляет еретические построения: только единосущность Сына Отцу обосновывает Божество Христа, и с этим тесно связано наше спасение— через нашу единосущность человечеству Христа. Св. Афанасий Великий развивает утверждение св. Иринея: «Бог становится человеком, чтобы человек стал богом». Это золотое правило восточной патристики полностью определяет ее антропологию. По определению апостола Иоанна Богослова (1 Ин. 3.4-6), грех есть беззаконие (anomia), преступление конститутивных, нормативных пределов человека. Грех обнаруживается законом: функция закона состоит в том, чтобы провести четкую границу между тем, что есть kata taxin (сообразно порядку), и тем, что есть беспорядок, хаос, глубокое смешение онтологических слоев в человеке. Патология предполагает и требует терапевтического воздействие, способного проникнуть до корня извращенности и осуществить исцеление природы через восстановление ее структуры. Этический катарсис, очищение от страстей и желаний, завершается в онтологическом катарсисе: metano и всей икономии человека. Следовательно, по существу, это есть восстановление первичной формы, возрождение Первообраза, образа Божьего.
В своей абсолютной чистоте этот Образ есть Христос, которого святые отцы называют Богочеловеческим Первообразом. В момент Воплощения Христос, «образ Бога невидимого» (Кол. 1.15), не ищет какой-либо иной формы, ангельской или астральной; Он не то, что приспосабливается к человеческой форме, но, согласно святым отцам. Бог, создавая человека, мысленно взирал на Христа как на Первообраз. Христос— «печать Отца» и Христос — Ессе homo («Се человек!»): Он соединяет в Себе образ Бога и образ человека. Положению «человек подобен Богу» соответствует его оправдание: «Бог подобен человеку’. Таким образом Бог воплощается в Свою живую икону: Бог ей не чужд, так как человек есть человеческий лик Бога.
Образ Божий выражает сродство, сходство, соответствие и показывает человека в Божественном и Бога в человеческом настолько, что можно опровергнуть наиболее общепринятую формулировку: «Воплощение обусловлено падением», — и сказать: первоначально, в начале, в самом своем принципе, сотворение человека «по образу Божьему» имело место в предвидении Воплощения — — обожения, и, следовательно, по существу оно было «вдохновлено» богочеловечеством.
Юнг, выступая как психолог, дает нам очень важное уточнение в богословском плане. Если рассматривать человеческую сторону, то образ Божий не ограничен только функцией связи между образцом и его воспроизведением, неодновременно является тем органом, который подготовляет человека к наступлению проявленной полноты; он выполняет пророческую функцию Предтечи, который ожидает и призывает Воплощение. Он призывает то, ради чего он существует, и то, к чему он устремлен, и тем самым, в известной мере, приближает это событие. С Божественной стороны, образ Божий, вложенный в человека, выявляет желание Бога стать человеком. «Божественный
Эрос,—говорит преп. Макарий Египетский, — побудил Бога снизойти на землю», побудил Его «покинуть горнее молчание». Оба стремления. Божественное и человеческое, достигает высшей точки в историческом Христе, в Котором, как в зеркале, Бог и человек узнают друг друга.
* * *
У святых отцов нет полного единогласия относительно образа Божьего. Его содержание настолько богато, что его можно увидеть в различных способностях нашего духа и все же не исчерпать до конца. Св. Афанасий Великий, говоря о функции Образа, настаивает на Его онтологическом характере причастия к Божественному. Именно потому, что hat ‘eikona (по образу) не является только моральным воспроизведением, его действие выражается в озарении человеческого nous, которое сообщает ему способность Богопознания. Св. Василий Великий также говорит о свете разума: «Как в микрокосмосе, ты увидишь в себе печать Божественной Премудрости». Однако это совсем не интеллекту алистская концепция, потому что ум берется не в своей самодостаточности, но в своей направленности, стремлении к Богу. Здесь мы встречаемся с классической концепцией Восточного богословия как практического пути познания —общения. Стремление к общению с Богом присуще человеку: «По самой своей природе у нас есть горячее желание прекрасного… все стремится к Богу».
Св. Григории Богослов развивает другую сторону: «Как земной я привязан к здешней жизни, но будучи также Божественной частицей, я ношу в моей груди желание будущей жизни». Следовательно, «быть по образу Божьему» означает первоначальное харизматическое состояние; Образ предполагает неразрушимое присутствие Благодати в человеческой природе. «Струя невидимого Божества», которую Бог вдохнула душу, предрасполагает ее к участию в Божественном Бытии. Человек не только морально упорядочен, неким повелением настроен на Божественное, но он принадлежит к Божественному роду; образ Божий предопределяет его к обожению.
Для св. Григория Нисского, создание «по образу Божьему» поднимает человека на вершину его достоинства — как друга Божьего, живущего в условиях Божественной жизни. Его ум, его мудрость, его слово, его любовь отображают те же силы в Боге. Но образ Божий идет еще глубже ввоспроизведении неизреченной Тайны Св. Троицы — до той глубины, на которой человек является загадкой для самого себя: «Легче познать небо, чем самого себя». Выражая Непознаваемого в тварном, человек открывает самого себя сокровенного (absconditus) в самом процессе этого выражения. Св. Григорий Нисский останавливается на изумительной возможности свободного самоопределения, исхождении всякого выбора и всякого решения из самого себя: aulexousia. Но это именно и значит: определять самого себя, исходя из своего создания по образу Божьему. Аксиологическая функция оценки и рассуждения делает из человека владыку, господствующего над своей собственной природой и всей тварью, и таким образом являет его в его достоинстве космического слова. Разница между Богом и обоженным человеком Царствия Божьего состоит в следующем: «Божественная природа нетварна, в то время как человек существует благодаря тому, что сотворен». В связи с образом Божьим христианство определяется как «подражание природе Божией»; отражением троичного бытия является множество человеческих ипостасей, соединенных в одной и той же единой человеческой природе.
Трансцендентный характер этого достоинства человека побуждает св. Феофила Антиохийского к следующему высказыванию: «Покажи мне твоего человека, и я тебе покажу моего Бога». Бог «обитает в неприступном свете» (1 Тим. 6.16), и образ Божий покрывает человека тем же облаком. Вслед за преп. Иоанном Дамаскиным и позднее св. Григорием Па-ламой можно определить человека в соответствии с его сознанием существования по образу Того, Кто есть.Сущего, и таким образом коснуться неизреченной области Его Тайны.
* *
Глубокая культура духовного внимания, которая находится в центре аскетических усилий, делает из этого внимания настоящее искусство видеть каждого человека именно в качестве образа Божьего. «Совершенный монах, — говорит преп. Нил Синайский, — будет почитать после Бога всех людей, как Самого Бога». Это объясняет тот кажущийся парадокс, что предание великих подвижников поражает своей радостной настроенностью и весьма высокой оценкой человека. Действительно, если монашество является проявлением эсхатологического максимализма (с последним монашествующим человеком земная жизнь останавливается и переходит в Царствие), оно также являет прозорливый максимализм тройного человеческого достоинства, трех функций образа Божьего: пророческой, царской и священнической.
Великая духовная преемственность, идущая от таких отцов, как преп. Макарий Египетский, преп. Исаак Сирии и другие, оставила нам в наследство не доктрину, а экспериментальную науку. Те, кто подобно практикам-терапевтам видели глубокое дно человеческой души, не нуждаются в дополнительных знаниях о степени ее извращенности (св. Андрей Критский определяет эту извращенность, как сотворение кумира из себя самого), но то же самое проникновение в глубины дает им и совсем другое, столь же непосредственное познание: они видят новую тварь, облеченную в Божественную форму. «Между Богом и человеком существует самое близкое родство» (преп. Макарий Египетский). Таким образом, в этой антропологической лаборатории пустыни удивительным образом разрабатывается тема человеческого призвания: подобно неверному управителю в притче, человек широко использует сокровище Божественной Любви, чтобы «собрать Добро в сокровищницу» и «поставить Царствие Божие» (преп. Максим Исповедник). Художник работает над веществом этого мира, подвижник же порождает себя самого, ваяет свой собственный лик и заново ткет свое существо из Божественного Света.
Положение человека в мире исключительно: он находится между духовностью ангелов и материальностью природы; в своей структуре он соединяет оба этих аспекта, что привлекало особое внимание св. Григория Паламы. От ангеловчеловека отличает то, что он сотворен по образу Воплощения; его чисто «духовное» воплощается и пронизывает всю природу своими «животворящими энергиями». Ангел является «вторым светом», чистым отражением, он — Посланец и служитель духовных ценностей. Человеку же, образу Творца, дана возможность исторгать эти ценности из вещества этого мира, возможность создавать святость и быть ее источником. Человек не отражает, но сам становится светом, становится духовной ценностью, и поэтому ангелы служат ему. Первоначальная заповедь «возделывать» Рай открывает грандиозные перспективы для «возделывания» культуры. Это возделывание, в своих анагогических изменениях, выходит за свои собственные пределы и приходит к культу, к кос-мическойлитургии,кнескончаемой песни «всякого дыхания»: «Пою Богу моему дондеже есмь» [«Буду—петь Богу моему, доколе есмь»] (Пс. 103.33), к песни, которая поется от человеческой полноты: это прелюдия — уже здесь, на земле — Небесной литургии. Как прекрасно выражается св. Григорий Нисский, человек соткан из музыки, он есть чудесно составленная хвалебная песнь Всемогущей силе. Возвышаясь над нисходящей кривой, которую обусловил грех, первоначальная судьба человека влияет на историческую его судьбу и определяет ее, по словам св. Василия Великого, следующим образом: «Человек — это тварь, которая получила повеление стать богом».
* *
Обнимая взором широкий круг святоотеческой мысли, бесконечно богатой и обладающей многими оттенками, можно заметить, что она избегает систематизации и тем самым сохраняет свою удивительную гибкость. Она позволяет, однако, сделать несколько основополагающих выводов. Прежде всего надо отвергнуть всякое субстанциалистское понятие образа Божьего. Он не вложен в нас как часть нашего существа, а весь человек в целом создан, изваян «по образу Божьему». Первое выражение образа Божьего состоит в иерархической структуре человека, в центре которой — духовная жизнь. Именно это центральное положение, это главенство жизни духа обуславливает врожденное влечение к духовному, к Абсолюту. «Это динамический порыв всего нашего существа к его Божественному Первообразу», — говорит Ориген; «Это непреодолимое влечение нашего духа к Богу», — говорит св. Василий Великий; «Это человеческий Эрос, направленный к Божественному Эросу», — говорит св. Григорий Палама. Короче говоря, это неутолимая жажда, всенапол-няющая сила желания соединиться с Богом, по изумительному выражению св. Григория Богослова: «Для Тебя я живу, для Тебя я говорю, для Тебя я пою».
Подводя итог, можно сказать, что каждая способность человеческого духа отражает образ Божий, но этот Образ состоит в том, что совокупность человеческого существа сосредоточена вокруг духовного начала и что человеку свойственно превосходить, перерастать себя, чтобы ввергнуться в бесконечный океан Божественной природы и там найти успокоение для своей тоски. Это — напряженное влечение иконы к своему Подлиннику, образа к своему агс/гё, своему Первообразу. «Посредством вложенного образа Божия, — говорит преп. Макарий Египетский, — истина заставляет человека устремиться на поиски Ее».
2. Разница между образом и подобием
Человек создан betsalmenukidemoutenu—»по образу Божиему и подобию». Для духа древнееврейского языка, всегда очень конкретного, tse-lem (образ) имеет очень сильный смысл. Запрещение создавать себе высеченные образы объясняется динамическим значением образа. Он вызывает реальное присутствие того, кого он изображает. Demouth (подобие, сходство) побуждает к тому, чтобы считать себя кем-то другим. Образ является цельным, монолитным и не может подвергаться никакому изменению, никакому искажению. Но его можно принудить к молчанию, подавить и лишить действенности через изменение онтологических условий.
Нужно еще упомянуть библейский термин tsemach — семя, зародыш. Сотворение мира, динамизм и цветение жизни, положительность библейского времени есть tsemach, зародыш, который изменяется, развивается, проходит через оплодотворение и превращает время износа и старения во время возпроизводства, время родов. Круговорот космического, циклического времени становится поступательным движением, ростом; это благая устремленность к свершениям. В этом импульсе и в этом поступательном движении нет повторного сотворения, но все определяет зародыш — то, что было в начале, первое предназначение.
Святые отцы настойчиво подчеркивают, что Христос восстанавливает то, что из-за падения пошло по ложному пути. Царствие Божье — это расцвет райского зародыша, остановленного в своем росте патологией падения, которую Христос пришел исцелить (образ исцеления очень часто встречается в Евангелии; он нормативен: воскресение есть исцеление от смерти).
Сотворение мира в библейском смысле подобно зерну, которое непрестанно приносит сто к одному: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (И н. 5.17). Оно есть та альфа, которая направляется к омеге и уже содержит ее, и именно это придает каждому мгновению времени эсхатологический характер, открывает перспективу его конечного исполнения и тем самым его судит. Мессию называют tsemach, и само понятие messiah происходит от полноты: Сотворение мира требует Воплощения, а Воплощение достигает своего исполнения в Парусии и в Царствии Божием. Мир сотворен вместе со временем. Это означает, что он «не закончен», пребывает «в зародыше» для того, чтобы продолжалось и развивалось соработничество (синергия) Божественного делания и человеческого делания вплоть до дня Господня, когда то, что было зародышем, достигнет своей конечной зрелости. «Цель будет достигнута только, если в конце будет то, что теоретически должно было существовать в начале, — богочеловечес-тво»[94]. Эта мысль Бергсона постулирует отсутствие какого бы то ни было онтологического разрыва: «Се творю последнего, как первого»[95] (ср. Отк. 21.5). Аксиома библейского Откровения учит о конечном совпадении того, что было в начале (en arche, in principle) первоначального намерения, со своей конечной целью, своим исполнением (telos). Началу, первоначальному выражению «сыны Всевышнего» (Пс.81.6) соответствует конечное выражение «вы боги» (Ин. 10.34). От древа жизни, через Евхаристию, мы направляемся к «престолу без завесы» Царствия Божьего. От первоначального несознательного совершенства мы идем к сознательному совершенству по образу совершенства Небесного Отца. Онтология существ, созданных «по образу Божию», тот факт, что они сотворены в соответствии с «родом Божиим», открывает перспективу для движения к цели: стать действительно святым, совершенным, богом по Благодати, соучастником в условиях Божественной жизни; бессмертным и целостным, «целомудренным». Образ Божий, объективное основание, благодаря своей динамической структуре призывает к субъективному, личному подобию Богу. Зародыш — «создание по образу Божию» — ведет к расцвету: к своему осуществлению, к «существованию по образу Божию».
У всех святых отцов мы находим четкое различение «образа» и «подобия», и преп. Иоанн Дамаскин кратко выражает ее так: «По подобию Божию значит: по подобию в добродетели»[96]. Предание говорит ясно и твердо: после падения «образ Божий» не изменился, но, принужденный к онтологическому молчанию, недействительный из-за уничтожения всякой способности к «подобию Божию», он стал совершенно недоступен для естественных сил человека. Св. Григорий Палама уточняет: «В нашем существе, созданном по образу Божию, человек выше ангелов, но в том, что касается подобия Божия, он ниже, так как неустойчив». «После падения мы отвергли подобие Божие, но мы не перестаем быть существами, созданными по образу Божию»[97]. Христос возвращает возможность действии[98], восстанавливает подобие Божье, что освобождает образ Божий, и сияние этого Образа становится видимым у святых и у детей. Св. Григорий Нисский оставил нам свое антропологическое возвещение: данное существо является человеком лишь тогда, когда оно движимо Св.Духом, когда оно является «образом Божием, подобным Богу». Образ Божий конститутивен и нормативен, его никак нельзя ни потерять, ни уничтожить. В своей функции сообразности, богообразности он делает реальными слова: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5.48). Когда «Бог будет все во всем» (1 Кор. 15.28), храмы будут сообразны Тому, Кто присутствует в них, наполняет их и дает им жизнь. Библейское «сыновство» отклоняет какую бы то ни было идею о юридическом усыновлении: христология хорошо показывает, что во Христе сыновья действительно подобны Отцу. Если Бог несравним, то сердце человеческое, в глубину которого может проникнуть лишь Бог, содержит в себе нечто уникальное и сравнимое, по прекрасному выражению св. Григория Нисского: что-то, что роднит его с Богом, потому что для того, чтобы быть причастным Богу, человек должен иметь в своем существе что-то, что соответствует тому, в чем он участвует[99]. Положению «Бог есть любовь» соответствует человеческое Amo, ergo sum (Люблю, следовательно, существую).
ГЛАВА III НАЧАЛО И КОНЕЦ ВЕЩЕЙ
1. Сотворение мира
Генезис твари трансцендентен для всякого естественного познания; Бог один может нам открыть, почему и как Он сотворил мир. Творя мир из ничего. Бог полагает около Себя абсолютно другое бытие, отличающееся от Него «не по месту, но по природе»‘ (преп. Иоанн Дамаскин)[100]. «Бог созерцал все вещи до их существования, представляя их Себе в мысли, и каждое существо получает свое существование в определенный момент, согласно вечной мысли, воле Божией,которая является предопределением, образом и образцом»[101] (преп. Иоанн Дамаскин). Выражение «мыслеволение» обозначает направленный согласно вложенному намерению и нормативный динамизм, что исключает всякий статический детерминизм. Эти мысли, logo’i, истины вещей не находятся в вещах, но суть их lelos ‘ы, их цели в форме призыва, и каждое существо имеет возможность, в силу своей свободы, принять или отвергнуть этот призыв.
Прежде всего Бог создал идеальную сферу мира, «эоническую тварную вечность» (преп. Максим Исповедник), его живое единство, которое можно назвать тварной Софией, natura nalurans, обуславливающей всякую конкретную единицу, входящую в natura nalurala[102]. На глубине, под внешним феноменальным видом, подвижным и изменчивым, находится его устойчивое основание, связывающее множественное в единый космос, в единое живое целое. Это совокупность принципов, на которых построено единство мира, имеющего множество аспектов: космический, логический, этический, эстетический, антропологический. Всякое истинное познание относится к Абсолюту, от эмпирических вещей восходит к их идеальной структуре, через оболочку мира созерцает икону.
Подобное видение, которое можно назвать софиологическим, утверждает существование органической связи между идеальной и эмпирической сторонами мира и констатирует наличие извращений, вызванных тем, что тварь имеет свободу и может нарушать свои собственные нормы. Глубокое смешение отношений создает и объясняет то, что софиологи называют темным ликом тварной Софии[103]. Она создана «по образу» Небесной Софии, Премудрости Божьей, которая содержит идеи Бога о мире. Земная София, идеальный корень мира, должна уподобиться Небесной, но свобода человеческого духа ниспровергла ее иерархию, извратила соотношение софийных принципов. Зло проскальзывает в «трещины» бытия. Оно является своеобразной питательной средой паразитического мира, неких наростов, которые составляют пародию на Софию, «ночной аспект твари»[104], ее бесовскую маску.
Только софиология[105], слава современного Православного богословия, ставит грандиозную космическую проблему. Она противостоит всякому агностическому, идеалистическому акосмизму, всякому эволюционному натурализму и воспринимает космос с литургической точки зрения. Космизм, присущий богослужению, истолковывает Сотворение мира Богом. Он показывает заранее установленную сообразность между элементами мира и их идеальной нормой: Божественной мыслью. Это та красота мира, которую человек будет узнавать в меру своего причастия Святому Духу. Св.Григорий Нисский говорит о «врожденном движении души, которое влечет ее к духовной красоте»[106]; св. Василий Великий — о «врожденном горячем желании прекрасного»[107]. Святой человек непосредственно и интуитивно ощущает эту красоту и воспринимает себе мир, даже в настоящем его состоянии, как духоносный: «Небо и земля полны славы» (ср. Ис. 6.3). Красота как сообразность обуславливает онтологическую способность вмещать Бога: «Тот, Которого не могут вместить небеса, входит, однако, в человека» (св. Иоанн Златоуст). Внутреннее природы открыто к бесконечному и влечет ее к такому единству, в котором части, согласно св. Василию Великому, связаны между собой симпатией; также и преп. Максим Исповедник в своих «Сотницах» поэтически
описывает, как Божественный Эрос заставляет появляться космос из хаоса.
В аспекте космической литургии, мир направляется к Богу, и Бог направляется к миру. Но царская свобода этой встречи предполагает первоначальное состояние неустойчивого совершенства.
2. Природа до падения
Согласно Православному богословию, в тварной природе присутствует Благодать от самого Ее источника, так как эта Благодать подразумевается в самом акте творения. Отсутствие Благодати просто немыслимо, это было бы извращением, уничтожающим природу, равным смерти второй, предсказанной в Апокалипсисе (Откр.20.14). Истина природы в том, что она есть сверхприрода, и это «сверх» означает: богообразна и богоносна. Именно в своей сущности человек отчеканен по образу Божьему, и именно эта онтологическая богообразность объясняет то, что Благодать «естественна» для природы, так же как природа сообразна Благодати. Они дополняют друг друга и взаимно проникают друг в друга; в своей сопричастности они существуют друг в друге, «одно в другом в совершенной голубице»[108] (св. Григорий Нисский). Однако райское блаженство было лишь зародышем, стремящимся к своей цели, — состоянию обожения. Свободно осуществленный разрыв в общении приводит к иссяканию Благодати. Боговоплощение восстанавливает утраченный порядок и являет нормативный принцип единства Божественной и человеческой природ «без разделения и без смешения». И это позволяет преп. Максиму Исповеднику определить цель жизни следующим образом:
«Соединить любовию тварную природу с нетварной, являя их единство и тождество через стяжание Благодати»[109].
Человек создан как причастник природы Бога («дыхание жизни» — Быт. 2.7), а Бог в Воплощении причастен человеческой природе. Богосообразности человека соответствует человечество Бога. Образ Божий в человеке — это тот третий, постоянно присутствующий момент, который объективно обуславливает
Боговоплощение, онтологическую возможность общения между двумя мирами. Христос является совершенным человеком лишь потому, что его человеческая природа «естественно» находится в общении с Божественной природой, с совершенным Богом. Само собой разумеется, что «естественно» не означает «натурализма»; Божественное не естественно человеческому, между ними зияние, непроходимая пропасть, и лишь участие Божественного в качестве дара может ее преодолеть. Это — харизмы Бога, но харизматичность присуща человеческой природе: «Если ты чист, то в тебе небо; внутри себя ты увидишь ангелов и Господа ангелов»[110]. В глубине самого себя человек видит присутствие Божье в Его образе, более близком человеку, чем человек — сам по себе; парадоксальным образом Божественное более человечно, чем чисто человеческое, так как это последнее является лишь абстракцией. Богообразная структура делает всякое автономное решение человеческой судьбы невозможным. Душа является местом присутствия и встреч, она имеет «супружескую» природу: обручение или прелюбодеяние — это общение со своим «другим». Выбор лежит не между ангельским состоянием и звероподобным, но между Богом и бесовским началом.
Боговоплощение — это ответ Бога на Свою собственную предпосылку в человеческой природе. Свой образ. Вот почему относительно Искупления для человеческой природы речь идет не столько о заглаживании своей вины, сколько об исцелении себя. Бог-Слово прерывает Свое «тихое молчание» для обоживаюшего общения. Он воплощается в первоначальную природу — первородную (чудесное Рождество) и окончательно завершает ее: в Нем Рай уже приобретает полноту Царствия: «…Приблизилось к вам Царствие Божие» (Лк. 10.11). И всякое существо, обновленное, воссозданное во Христе, восстанавливается и направляется к status naturae integrae. Вот почему на Востоке самые представительные течения мысли говорят об Искуплении скорее в физико-онтологических, чем в этико-юридических терминах. Целью является не «выкуп» и даже не «спасение» (в «салютистском», индивидуальном смысле), но апокатастасис, всемирное восстановление и исцеление[111]. Боговоплощение и обожение (теозис) дополняют друг друга, и потому можно рассматривать первоначальную праведность не как дарованное преимущество, но как корень существа, которое отвечает на желание Бога вновь обрести Себя в человеке. Именно для этой Божественной цели человек в своей сущности отчеканен по образу Божьему.
3. Падение и домостроительство спасения
Падение подавляет образ Божий, но не извращает Его. Зато сходство, возможность подобия органически затронуты. В западной концепции homo animalis сохраняет после падения основные человеческие начала, но человек-животное лишен Благодати. Для греков, хотя образ Божий и не потускнел, извращение первоначальных отношений между человеком и Благодатью так глубоко, что только чудо Искупления восстанавливает человека в его истине. После падения человек оказывается лишенным не чего-то добавочного, а своей истинной природы; тогда становится понятным утверждение святых отцов о том, что христианская душа по сути есть «возвращение в рай», стремление к нормативному состоянию своей природы.
Для западных богословов человеческая природа охватывает и интеллектуальную и животную жизнь, в то время как духовная жизнь (сверхъестественная сторона) добавляется и в известной мере накладывается на чисто человеческую икономию. Для восточных богословов выражение «человек, созданный по образу Божию» точно определяет то, чем человек является по природе. Образ Божий охватывает интеллектуальную и духовную жизнь, он объединяет nous и рпеита, а добавляется животная жизнь[112]. До падения эта животная связь была внешней для человека;
обращенная к нему, она ждала своего собственного одухотворения. Падение в чувственность» ускоряет события и добавляет животную жизнь к человеку. Библейский рассказ о запретном плоде указывает на евхаристическое значение плодов двух деревьев, так как речь идет об их потреблении. В «бесовской евхаристии» потребления запретного плода космический элемент (плод) и бесовский элемент (нарушение заповеди) вводятся в человеческую природу; таинство Крещения ясно это показывает в обряде заклинания (экзорцизма). «Сбросив с себя мертвую и безобразную одежду, сделанную из звериных шкур — я понимаю под этими шкурами образ животной жизни, в которую мы были облечены вследствие нашего общения с чувственной жизнью, — мы отбрасываем с нею все, что нам было добавлено вследствие облечения в эту звериную шкуру»[113] (св. Григорий Нисский). Белые одежды, получаемые при Крещении, обозначают возвращение к «телу духовному». Биологическое животное начало, символизируемое одеждами из звериных шкур, чуждо истинной природе человека, потому что преждевременно[114], введено до своего одухотворения, до того как человек (призванный к возделыванию космической природы) достиг власти и господства духовного над материальным. Благая сама по себе, животная природа, по причине нарушения иерархии ценностей, ныне представляет собой деградацию человека. «Не желание, а определенное желание (похоть) является дурным»[115] (Дидим Слепец). Поражена аксиологическая способность оценки, дух рассуждения (преп. Максим Исповедник); «Вне Бога разум становится подобным животному и бесам, и, удаляясь от своей природы, он желает того, что ему чуждо»[116](св. Григорий Палама).
Великий смысл духовного подвига заключается в стремлении к истинной природе; борьба идет не против плоти, но против отклонений от нормы и против принципа, лежащего в основе этих отклонений. В связи с этим имеется в виду не столько прощение и возвращение Благодати, сколько преображение и полное исцеление. Аскетическое состояние «страсти бесстрастной» предваряет будущий век, и покорность диких зверей святым с силою свидетельствует об ином зоне.
Отравлен сам источник, так как онтологическая норма нарушена духом. Для св. Григория Паламы страсти, которые происходят от природы, наименее тяжки, они выражают лишь тяжесть материи, вызванную тем, что ее одухотворение не осуществилось. Источник зла лежит в раздвоенности сердца, в котором зло и добро странно совмещаются, как в «мастерской правды и нечестия»[117](преп. Макарий Египетский). Благодаря образу Божию человек всегда ищет Абсолюта, но «подобие» вне Христа остается бессильным, грех искажает намерения души, и она ищет Абсолют в кумирах, пытается утолить жажду миражами, не имея возможности подняться до Начала. Благодать, сведенная к потенциальному состоянию[118], может дойти до человека только сверхъестественным путем — сверхъестественным не по отношению к его природе, а по отношению к его греховному состоянию. Истина человека предшествует его раздвоению, и она берет верх, как только человек обращается ко Христу. Видение «снизу» должно быть дополнено видением «сверху», которое доказывает, что грех вторичен, как всякое отрицание. Никакое зло никогда не сможет устранить первоначальную тайну человека, так как не существует ничего, что могло бы уничтожить в нем неизгладимую печать Бога.
По апостолу Павлу, благодаря закону грех становится реальным, и именно потому, что закон обнаруживает имманентность нормы во Христе, то есть святость. Таким же образом, слова «вы будете как боги» (Быт.3.5) не являются чистой иллюзией, так как искушение берет истину за исходную точку: «…Все вы — боги, и сыны Всевышнего — все вы» (Пс.81.6). И исходная праведность, хотя потерянная, но не уничтоженная , обуславливает угрызения совести и постулирует покаяние. Чин отпевания ясно это показывает: можно по-настоящему понять убожество человек, ставшего трупом, только если вознестись к славе его первичного назначения. Карикатура становится бесовской лишь при онтологическом сравнении с ее противоположным полюсом — иконой.
Теперь становится легче понять роль первичного назначения человека в греческой патристике: «Христом целостность нашей природы восстанавливается», потому что «Он представляет Собой образ (архетип) того, чем мы являемся»[119]; и наоборот, мы становимся подобными Ему. Таинства воссоздают первичную природу человека, потому что Дух Святой, который был дан первому человеку «с жизнью», нам возвращается в освящении через Крещение и Миропомазание. Покаяние есть по существу метод лечения, а Евхаристия вводит закваску нетления, pharmakon anasthasias. Святостью и чудесами отмечается для человека возвращение к первоначальной власти, которая есть харизма и норма в одно и то же время. Христос-Первообраз снова ваяет человека, как статую, по Своему образу. Богослужебный круг пасхальной мистерией не только предваряет, но уже вводит в status naturae integrae.
4. Антропология обожения
Катафатическое (положительное) богословие преломляет неизреченную тайну Бога через призму мысли, но даже ангелы, которые пребывают во свете «трисолнечном», не имеют доступа к Ней. Рука Яхве закрывает лицо, которое ни один «человек не может увидеть …и остаться в живых» (Исх. 33.20). Увидеть Бога сзади (Исх. 33.23) означает созерцать Его действия, Его энергии, но не Его сущность. Различие в Боге сущности и энергии — основное различие уже для св. Василия Великого[120] и затем для св. Дионисия Ареопагита[121], преп. Иоанна Дамаскина[122], св. Григория Пала-мы[123] — никоим образом не нарушает простоту Божью; однако эта простота для восточных богословов не является концептом, подчиняющимся законам логики. Бог Сам в Себе превыше всякого концепта бытия, и атрибуты, которые логически Ему присущи, не обязательно применимы и не могут Его объективировать.
Для западных богословов сущность и существование в Боге тождественны. Бог есть то, что Он имеет. Это логически вытекает из абсолютной простоты принципа и тем самым запрещает отделять сущность от энергий. В этой перспективе целью христианской жизни может быть только visio Deiper essentiam (видение Бога по сущности). Так как взаимопроникновение Божественной сущности и человеческой во всяком случае исключается, то lertium non datur (третьего не дано), то есть обожение оказывается невозможным. Человек предрасположен к блаженству, он стремится к Благодати (visio beata) блаженного видения. Антропология существенным образом моральна. Сосредоточенная вокруг высшего Добра, она предлагает получить его делами, дающими блаженство, в рамках тех действий воинствующей Церкви, которые направлены на завоевание мира[124].
На Востоке теозис — обоженное состояние человека, его одухотворение Божественными энергиями — отвечает природе этих энергий, которые проявляют себя в месте, сообразном их присутствию, и преобразуют его своим присутствием. Таким образом православная антропология не моралистична, но онтологична: она есть онтология обожения. Она соотносится не с завоеванием мира, а с «восхищением Царствия Божия» (ср. Лк. 16.16), то есть внутренним преобразованием мира в Царствие Божье, его постепенным насыщением Божественными энергиями. Тогда Церковь является местом, где совершается это преображение через таинства и богослужения, и она открывается по существу как Евхаристия[125], как Божественная жизнь в человеке, как Богоявление и как икона небесной действительности. В этом смысле, как Ecclesia orans (Церковь молящаяся) Церковь больше освящает, чем учит.
С этой точки зрения церковного реализма святые отцы углубляют понятие «сыновства», по апостолу Павлу, толкованием апостола Иоанна Богослова: сыном является тот, в ком Бог сотворил Свою обитель; это — «вселение» Божье. Святой Дух нас приводит к Отцу во Христе Иисусе, делая нас сотелесными (Еф. 3.6), и этот Образ явно возникает из Евхаристии. Св. Кирилл Иерусалимский активно настаивает на том, что причащающиеся в Евхаристии «Телу Божию», «закваске и хлебу бессмертия», становятся сотелесными и сокровными Христу. Молитва св. Симеона Метафраста, читаемая после святого Причащения, также это подчеркивает: «Давый пищу мне Плоть Твою волею, огнь сый и опаляяй недостой-ныя, да не опалиши мене, Содетелю мой: паче же пройди во уды мои, во вся составы, во утробу, в сердце. Попали терние всех моих прегрешений: душу очисти, освяти помышления, составы утверди с костьми вкупе; чувств просвети простую пятерицу; всего мя спригвозди страху Твоему».
Человек «христотворится»; «персть…. получает царское достоинство… и прелагается в субстанцию царя» (Николай Кавасила)[126].
Существует некое прямое соответствие между последовательностью таинств и жизнью души во Христе[127]. Вступление в Церковь, осуществляемое тремя великими таинствами, в Евхаристии завершается и совпадает с вершиной мистического восхождения — с обожением. Евхаристия и теозис проливают свет друг на друга: они представляют одно и то же событие, мистически тождественное. Здесь реализуется золотое правило всей святоотеческой мысли: «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом», и мы подходим к основе православной духовной жизни: человек становится по Благодати тем, чем Бог является по природе. Подвижническая жизнь приводит к теозису путем постепенного восхождения по ступеням «райской лестницы» (преп. Иоанн Лествичник). Напротив, жизнь в таинствах дарует свою Благодать мгновенно. Слово св. Иоанна Златоуста, читаемое на пасхальной заутрене, хорошо выражает это безмерное изобилие: «Тем же убо внидите вси в радость Господа своего: и первии, и втории, мзду приимите. Богатии и убозии, друг со другом ликуйте. Воздержницы и ленивии,день почтите. Постившийся и непостив-шиися, возвеселитеся днесь. Трапеза исполнена, насладитеся вси». Св. Иоанн Златоуст говорит также (Проповедь на 1 Кор.), что в Евхаристии Христос «растворяет в нас действительность Своей Плоти», вливает Ее в нас; и все духовные авторы настаивают на «огне», который мы потребляем в святом Причащении. Слова Христа «Огонь пришел Я низвесть на землю» (Лк. 12.49) говорят именно об этом евхаристическом пламени. По образу хлеба и вина, человек становится частицей обоженной природы Христа. Закваска бессмертия, сила воскресения соединяются с нашей природой, и Божественные энергии полностью пронизывают ее[128]. Можно сказать, что аскетическая и мистическая жизнь — это все более и более полное осознание жизни в таинствах. Обозначение той и другой одним и тем же образом мистического брака указывает на их одинаковую природу.
Павел Евдокимов «Женщина и спасение мира».